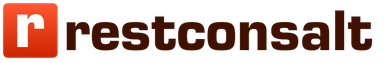Старый добрый лытдыбр. Все дело в волшебных пузырьках Все дело в волшебных пузырях

Фото: Слияние везикулы с клеточной мембраной: «колбасками» показаны белки-рецепторы SNARE (справа) и вирусные белки, имитирующие их работу (слева).
Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили три американских ученых за «исследование механизмов, регулирующих везикулярный транспорт». Ренди Шекман, Джеймс Ротман и Томас Зюдоф в своих работах объяснили, как различные вещества двигаются внутри клеток в мембранных пузырьках: работа каких генов для этого необходима, как на молекулярном уровне происходит слияние везикул и как этот процесс регулируется в нейронах, где особенно важно, чтобы слияние происходило только в нужное время и в нужном месте.
Эукариотическая, то есть содержащая ядро клетка, с точки зрения биохимии, очень велика. Хотя рассмотреть ее обычно можно только в микроскоп (яйца и волокна апельсинов - не в счет), даже самая маленькая эукариотическая клетка больше клетки бактерий в сотни и тысячи раз. Как бы ни была сложна бактерия, она, в конечном счете, не далеко ушла от пробирки с (очень сложным) раствором, но клетки эукариот от безъядерных микробов в этом смысле очень сильно отличаются. Они всегда поделены на множество отделов, которые выполняют разные функции и часто содержат совершенно непохожие, несовместимые вещества.
Это означает, что перед эукариотами, в отличие от бактерий, в какой-то момент эволюции появилась проблема внутриклеточной логистики. До того, как возникли ядерные организмы, такой проблемы не существовало: то, что синтезировалось в одной части бактериальной клетки, немедленно диффундировало в другую ее часть. Если же какое-либо вещество требовалось выбросить в окружающую среду, его обычно синтезировали на мембране, одновременно протаскивая наружу как нитку через игольное ушко.
Однако для большой и сложной клетки эукариот, даже если она представляет собой совершенно самостоятельный организм, без системы внутриклеточного транспорта обойтись нельзя. И уж тем более такая система необходима многоклеточным, некоторые клетки которых специализируются на выработке разных веществ: гормонов, пищеварительных ферментов или нейромедиаторов. Именно поэтому у эукариот, наряду с ядром и митохондриями, появилась другая принципиальная инновация - развитая система транспорта веществ в мембранных пузырьках.
Ренди Шекман: От пузырьков к генам
Следует сразу оговориться, что нынешняя Нобелевская премия присуждена не за открытие везикулярного транспорта как такового, а за выяснение механизма его работы. То, что некоторые вещества могут транспортироваться внутри клеток в пузырьках-контейнерах, стало ясно практически тогда же, когда получил распространение электронный микроскоп - такие пузырьки были ясно видны на снимках. Один из «логистических узлов», где они формируются, аппарат Гольджи, был открыт итальянским ученым Камилло Гольджи еще в конце XIX века, даже до изобретения электронного микроскопа. Второй главный «клеточный хаб», эндоплазматический ретикулум (ЭПР), был открыт несколько позже Альбертом Клодом, за что ученый наряду с двумя коллегами получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1974 году. И, наконец, тот факт, что именно мембранные пузырьки с нейромедиаторами передают сигналы от одного нейрона к другому в синапсах, был установлен Катцем, фон Эйлером и Аксельродом, благодаря чему они также стали нобелевскими лауреатами в 1970 году.

Тем не менее, что именно управляет мембранными пузырьками, за счет чего они транспортируются в нужные части клетки, как они сливаются с клеточной мембраной, оставалось непонятным вплоть до конца семидесятых годов прошлого века, когда к этому вопросу обратился сотрудник Университета Беркли Ренди Шекман.
Научным руководителем Шекмана в университете стал Артур Корнберг, нобелевский лауреат и знаменитый биохимик (а также отец нобелевского лауреата Роджера Корнберга, который сейчас вместе с Жоресом Алферовым возглавляет научный совет Сколково).
Несмотря на биохимическую школу, для того чтобы разобраться с везикулярным транспортом, Шекман обратился не к биохимическому, а к генетическому методу исследования. Он решил использовать наиболее простой эукариотический модельный организм, и занялся получением мутантов дрожжей, у которых проявляются те или иные дефекты везикулярного транспорта.
В серии работ, выполненных совместно с Петером Новиком (именно он значится первым автором ключевых статей Шекмана), ученый обнаружил у дрожжей 23 гена, работа которых необходима для нормальной секреции гликопротеинов. Когда мутантные дрожжи переносили в термостат с высокой температурой (там мутации начинали проявлять свое действие), клетки переставали делиться. Под электронным микроскопом по краям таких клеток можно было заметить тысячи маленьких пузырьков, которые не могли слиться с мембраной и выбросить наружу свое содержимое. Испорченные у этих мутантов гены получили названияsec1 ,sec2 ,sec3 и так далее. Они стали своего рода библиотекой, на которую ориентировались последующие ученые, когда родственные гены начали искать у высших эукариот. Однако как на молекулярном уровне работают белки, кодирующиеся этими генами, выяснить удалось уже не Шекману, а его независимо работавшему коллеге, Джеймсу Ротману.
Джеймс Ротман: Белковая молния
У Джеймса Ротмана, который всего на два года младше Шекмана и примерно в то же время работал над внутриклеточным транспортом в Стенфорде, был принципиально иной подход к исследованиям. Во-первых, он работал не на дрожжах, а на культурах клеток млекопитающих. Точнее говоря, даже не на самих клетках, а на их экстрактах. Во-вторых, он занимался не поиском мутантов, а классической биохимической работой - выделением белков. В каком-то смысле можно сказать, что Ротман стал «копать тоннель с другого конца» и, к счастью, в 1992 году эти два направления исследований сошлись в одной совместной работе.
box#1427496
Главной моделью Ротмана стал вирус везикулярного стоматита (VSV), один из белков которого при созревании гликозилируется, то есть модифицируется различными сахарами. По мере того как этот белок после синтеза на мембране ЭПР двигается вдоль транспортного «конвейера» клетки, он сначала получает, а потом теряет некоторые сахара. Эти сахара оказались для Ротмана очень удобными маркерами, благодаря которым можно было отследить, на какой стадии остановился транспорт при добавлении тех или иных клеточных экстрактов.
Работая с этой биохимической системой, Ротман выделил сначала один (NSF), а затем множество белков, работа которых была необходима для слияния и деления мембранных пузырьков. И в этот момент работы Шекмана и Ротмана, генетический и биохимический подход, сошлись: оказалось, что один из белков, выделенных из экстрактов клеток (SNAP), является близким родственником того, чья последовательность закодирована геномsec17 из дрожжей. Открытие было опубликовано в первой совместной работе нынешних нобелевских лауреатов, которые до этого момента работали совершенно независимо друг от друга. Помимо прочего, из этого совпадения следовало, что система везикулярного транспорта у дрожжей и млекопитающих работает благодаря одним и тем же общим механизмам.
Дальнейшие биохимические опыты Ротмана позволили установить состав целого комплекса белков, которые участвуют в слиянии молекулярных пузырьков. Для поиска этих молекул ученый использовал уже не экстракты клеточных культур (материала в них обычно довольно мало), а препараты бычьих мозгов, ведь именно в нервной ткани очень много синапсов, где везикулы с нейромедиаторами должны сливаться по команде электрического возбуждения.
Работы Ротмана позволили сформировать так называемую SNARE-гипотезу - модель, которая объясняет, почему везикулы сливаются с клеточными мембранами именно в тех местах, где это необходимо. Согласно этой модели, слияние регулируется двумя группами рецепторов: t-(target)-SNARE (синтаксины) и v-(vesicle)-SNARE (синаптобревины), то есть молекулами, находящимися на мембране и на везикулах соответственно. Определенные рецепторы v-SNARE способны взаимодействовать с рецепторами t-SNARE только строго соответствующего типа (а их известно не менее 35 разновидностей), поэтому слияние проходит специфически, хотя его механизм в общих чертах остается тем же самым.
Ключевым моментом слияния является переплетение находящихся на разных мембранах белков в своеобразные косы из четырех альфа-спиралей (в англоязычной литературе их принято называть «застежками-молниями»). Это переплетение дает энергию, необходимую для слияния липидных слоев, которые в норме достаточно сильно отталкиваются друг от друга из-за отрицательного заряда фосфатов.
Томас Зюдоф: Кальциевая регуляция
После того как молекулярный механизм слияния мембранных пузырьков был выяснен, остался вопрос временнóй регуляции этого процесса. Ведь в нервных клетках везикулы с нейромедиатором должны выбрасываться в синаптическую щель тогда и только тогда, когда клетка возбуждается. Электрическая деполяризация нейрона всегда сопровождает вход в клетки ионов кальция и именно они оказались ключевыми для всего процесса.

Установить детали кальциевой регуляции удалось Томасу Зюдофу, биохимику из Геттингена, который свои основные работы выполнил уже в США, в Техасском университете. Он обнаружил, что помимо рецепторов SNARE в процессе слияния мембранных пузырьков важную роль в синапсах играют еще несколько белков, ключевыми из которых оказались комплексин и синаптотагмин.
Работая на так называемых нокаутных мышах - животных, у которых искусственно выключен один из генов, Зюдоф показал, что удаление комплексина приводит к сильному снижению активности всех без исключения синапсов. Непосредственно связывание ионов кальция проводит другой белок, синаптотагмин. Кроме того, Зюдофом с коллегами был найден и третий белок, который соответствовал тому самому мутантуsec-1 , который первым попался Шекману в его исследованиях в конце 70-х.

Изображение: Danko Dimchev Georgiev, M.D.
Интересно, что в ходе этих опытов Зюдофу удалось даже получить линию нокаутных мышей, у которых из-за отсутствия одного из белков во всей нервной системе не работал ни один (!) синапс. Самым удивительным было то, что у таких грызунов формировался практически нормальный мозг, нейроны которого все-таки умирают, но очень поздно - только после его полного созревания. Таким образом, попутно с прояснением деталей регуляции везикулярного транспорта удалось установить, что работа синапсов нужна мозгу для того, чтобы поддерживать свое существование, но не требуется, пока он еще не созрел.
О моде на науку
Прошлогодняя Нобелевская премия по медицине Джону Гардону и Синья Яманаке была вручена за открытие механизма перепрограммирования, который позволяет практически из любых зрелых клеток получить стволовые. Работы двух этих ученых оказались сильно разнесены во времени - ключевые опыты Гардон провел в 70-х годах, а Яманака получил первые перепрограммированные стволовые клетки в 2004 году. Сказать, что этого последнего открытия очень ждали, значит ничего не сказать: оно позволило, наконец, работать со стволовыми клетками без использования эмбрионов и, что еще более важно, научило биологов получать стволовые клетки, которые генетически идентичны донорам материала. Сегодня такие клетки уже вовсю используются для получения искусственных органов. Из них, как недавно показали ученые, даже формируются напоминающие мозг органоиды, а произведенныеin situ , такие клетки обладают полной тотипотентностью - они способны даже образовывать внутри тела эмбрионы.

Везикулярный транспорт по сравнению с клеточным перепрограммированием кажется темой существенно менее «модной». Возможно, такое чередование модных и не слишком модных тем - это осознанная политика Нобелевского комитета, а может быть, просто результат случайности. В любом случае, стокгольмские эксперты по-прежнему остаются непредсказуемыми: ни одна из тематик, которым сулили премию по медицине в этом году, так и не выиграла. А ведь среди них была и такая важная тема, как эпигенетическое метилирование - именно на нее «ставили» очень многие в молекулярно-биологическом сообществе.
Нобелевский комитет, как мы видим, далеко не всегда следует моде. И это хорошо: на длинной дистанции ценность открытия определяется не его немедленной применимостью, а фундаментальностью, то есть тем, насколько глубинные процессы оно может объяснить.
Если же кому-то очень хочется придать нынешней премии модный флер, то сделать это проще простого. Помните такую косметическую процедуру, как «ботокс», инъекцию ботулотоксина? Так вот, ботулотоксин разрезает как раз те самые открытые Ротманом белки (а именно SNAP-25) в комплексе SNARE-рецепторов в месте слияния везикул, что приводит к выключению данного синапса.
Важнейшее и наиболее знаменитое качество шампанских вин - это пузырьки, которые, лопаясь, образуют над бокалом маленький ароматный фейерверк. Исследователи с родины шампанского - из Университета Реймса (Шампань, Франция) - провели точнейший масс-спектрометрический анализ веществ, входящих в аэрозоль, возникающий над поверхностью игристого напитка. Согласно результатам анализа, этот аэрозоль многократно обогащён (по сравнению с жидкой фазой) сотнями определяющих запах вина ароматических веществ, во многом благодаря которым шампанское завоевало свою славу благородного напитка.
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолет буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском - это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы - в Нагасаки! Из Нью-Йорка - на Марс!
Надо сказать, что концептуальным предшественником этого исследования стали тоже работы по брызгам, но только не шампанского, а морской воды. Уже довольно давно установлено, что морской воздух (по сравнению с толщей вод) многократно обогащён органическими молекулами морского происхождения. Механизм этого явления достаточно прост: все эти соединения являются сурфактантами , - то есть, веществами, обладающими поверхностной активностью , - и в силу своей амфифильной химической природы адсорбируются на поверхности зарождающихся в морских волнах пузырьков. Всплывая на поверхность, пузырьки лопаются, и, распадаясь на мириады микроскопических капель, образуют аэрозоль , обогащённый этими органическими молекулами .
С шампанским ситуация обстоит приблизительно таким же образом. Если десакрализовать этот напиток и руководствоваться лишь принципами научного познания, это вино (и другие шипучие вина) можно представить многокомпонентным водно-спиртовым раствором, перенасыщенным углекислым газом (CO 2), образующимся параллельно с алкоголем в процессе ферментации. Однако самым главным здесь является не это, а содержание сотен поверхностно-активных соединений, «достающихся в наследство» от виноградного сырья или микроорганизмов, осуществляющих весь процесс. (Кстати, в обычной бутылке шампанского (0,75 л) содержится около 5 л CO 2 , что, с учётом типичного размера пузырька (0,5 мм), в сумме составляет поверхность площадью около 80 м 2 .)
Каждую секунду играющее вино разбрызгивает целые облачка микроскопических капелек, возникающих после того, как очередной всплывший пузырёк газа в бокале лопается. Чтобы не полагаться исключительно на собственные органы зрения, этот увлекательный процесс достаточно детально изучен при помощи скоростной макрофотографии и лазерной томографии (рис. 1).
Рисунок 1. Процесс образования аэрозоля над поверхностью бокала с шампанским. А - Серия фотоснимков интервалом времени ≈1 мс, иллюстрирующая заключительную стадию существования отдельного пузырька (риска: 1 мм). Б - Сливаясь с другом и лопаясь, пузырьки шампанского фактически поднимают в воздух (в форме аэрозоля) верхний слой жидкости. Мириады микроскопических капель, разбрызгиваемых во множестве каждую секунду, разлетаются на несколько сантиметров над поверхностью. В - Аэрозоль из шампанского над поверхностью бокала, как он выглядит с помощью методик лазерной томографии.
Для изучения состава аэрозоля на бокал с шампанским на 10 минут клали предметное стекло, образцы осевшей жидкости с которого подвергали масс-спектрометрическому анализу . Сравнение масс-спектров аэрозоля и жидкой фазы в диапазоне отношения массы к заряду (m/z) 150−1000 выявило тысячи «общих» соединений, а также более сотни молекул, содержание которых в аэрозоле оказалось на несколько порядков выше, чем в жидкости.
Для идентификации этих молекул учёные проводили поиск по метаболическим базам данных с интерфейсом для масс-спектрометрических данных, в качестве потенциальных «кандидатов» указывая метаболиты винограда (Vitis vinifera ) и дрожжей (Saccharomyces cerevisiae ), имеющих самое прямое отношение к биохимии вина. Среди 163 соединений, обогащающих аэрозоль, 32 предположительно относятся к винограду, а 13 - к дрожжам.
Среди «распознанных» молекул в брызгах шампанского - насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты с длинами цепи C 13 –C 24 , группа норизопреноидов (терпенов), определяющих как общие «очертания» запаха вина, так и ароматы, специфические для сортов винограда шираз, шардоне, мелон, мускат, рислинг, и другие вещества, как правило, обладающие характерным запахом.
Жерар Лиже-Белар, возглавлявший команду французских и немецких ученых, проделавших эту работу, таким образом прокомментировал свой повышенный интерес к происходящему в бокале с шампанским: «Благодаря этим удивительным процессам, один бокал содержит одновременно и пищу для ума, и удовольствие для органов чувств» .
Литература
- G. Liger-Belair, C. Cilindre, R. D. Gougeon, M. Lucio, I. Gebefugi, et. al.. (2009). Unraveling different chemical fingerprints between a champagne wine and its aerosols . Proceedings of the National Academy of Sciences . 106 , 16545-16549;
- Colin D O"Dowd, Gerrit de Leeuw. (2007). Marine aerosol production: a review of the current knowledge . Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 365 , 1753-1774;
- Liger-Belair G., Lemaresquier H., Robillard B., Duteurtre B., Jeandet P. (2001). The secrets of fizz in champagne wines: A phenomenological study . Am. J. Enol. Vitic. 52 , 88–92;
- Gerard Liger-Belair, Guillaume Polidori, Philippe Jeandet. (2009). ChemInform Abstract: Recent Advances in the Science of Champagne Bubbles . ChemInform . 40 .
Недавно от компании Bestfilament получил небольшую посылку с новыми материалами: прозрачныйABS, POM, ABSLumi, BFlex, PBT, ASA, PETG, PC/ABS, все в основном нелюбимого мною размера - 1,75 мм, и сейчас покажу еще один пример чем 2,85 лучше.
Пробники 1,75мм я предложил разобрать всем желающим.
Ну а любимый размер 2,85 досталcя мне материалы: Прозрачный ABS, ABS Lumi и ASA (кстати кто использует пруток 2,85мм готов поделится этими материалами), но обо всем по порядку.
Lumi пусть и PLA я уже . ASA тоже . А вот прозрачный ABS наиболее интересен, поэтому начну с него.
Открыв коробку я увидел катушку с кристально прозрачным прутком с пузырьками внутри, очень красиво, можно использовать просто уже один пруток для декора:
Уточнил в Bestfilament, нормально ли что в прутке пузырьки, сказали нет, но так как для меня 2,85мм делали на скорую руку, то вышло так. Я посмотрел на пробник 1,75 и действительно не единого пузырька обнаружить не удалось. Но все равно с пузырьками красивее)))
Просто свойства других прозрачных материалов (натуральный PLA, SBS, PETG) мне хорошо известно, какими бы они прозрачными не были после печати все это превращается в матовое хоть и светопропускающие изделие. И без дополнительной химической обработки кристальную прозрачность ему не вернуть.
Попробую ка я напечатать вазу, но есть подозрения что эти пузырьки с вазой точно сыграют злую шутку, взял стандартные параметры для всего пластика ABS от Bestfilament, первую попавшуюся вазу с thingiverse из числа тех что я еще не печатал, поставил печать и ушел домой: Думал приду с утра и получу нечто такое вместо вазы: А нет пришел на работу и ВАХ!:
Нигде намека на деламинацию, нигде пузырики не сыграли злую шутку, ряд к ряду, линия к линии, интересно пузырики в 1,75 прутке смогли бы так напечатать....
Тест на прозрачность, без хим обработки, внутрь положил шариковую ручку (серая с синим)
Т.к. печаталось в режиме ваза, то стенка в один проход получается такая же хрупкая как при печати SBS, PLA и другим ABS. При сжатии ваза начинает трескаться.
После легко ацетонинга кистью вышла вот такая красота:
Думаю "баня" дала бы бы эффект получше, но не нашел как ее сделать из того что есть в мастерской.
С точки зрения сравнения с аналогами для печати ваз, например с SBS понравилось что более упругая получается конструкция, лучше держит форму, но в тоже время более хрупкая- при сжатии трескается.
Эксперименты продолжаются, но отличий от классического АБС пока не увидел, даже параметры печати те же самые.
Ну и мы с вами вместе увидели очередной плюс в пользу пластика 2,85мм, никакие волшебные пузырьки никак не отражаются на качестве печати.
Мои контакты на всякий случай:
Барб-Николь Клико, урождённая Понсарден, овдовела в 27 лет. В конце XVIII века ей по статусу полагалось выйти замуж во второй раз или горевать до самой смерти, вышивая подушки и принимая гостей. Она не испытывала нужды - её отец был состоятельным господином, а от брака с Франсуа Клико осталась только одна дочь. Но вдова Клико любила виноделие и верила в то, что сможет исполнить мечту супруга и построить знаменитый винный дом. Этой уверенностью она смогла заразить собственных отца и свёкра, которые ссужали деньги её предприятию, бывших сотрудников и компаньонов мужа, а также императора Наполеона и царя Александра Первого. История её бизнеса - это череда неудач и борьбы с обстоятельствами, погодой, законами, санкциями и предрассудками. «Секрет» прочитал книгу Тилар Маццео и рассказывает, как появилось самое известное шампанское в мире.
Как появилось шампанское
История шампанского, как и всякого романтизированного продукта, полна лжи и недомолвок. Например, Пьер Периньон, монах-бенедиктианец, вовсе не изобретал его. Легенда о том, что впервые игристое вино начали производить в 1660 году в аббатстве Овилле появилась в конце XIX века - её придумали маркетологи дома Moёt, чтобы лучше продавать вино под маркой «Дом Периньон». Легенда возникла не совсем на пустом месте, действительно в подвалах аббатства иной раз в холодные зимы созревало вино с пузырьками, но дом Периньон как раз это не одобрял и старался от игристости избавиться. А любили вино с пузырьками в то время не во Франции, а в Англии - там к 1660 году уже существовал небольшой рынок производства и продажи игристого вина.
Ещё один обман - настоящее шампанское, которое обожали цари и придворные, вовсе не сухое. Оно было примерно в 4-5 раз слаще самого сладкого современного вина. Кроме того, в основном оно было тёмно-розового цвета. Такими разоблачениями наполнена книга историка Тилар Маццео о вдове Клико, потому что сведений о самой вдове удалось собрать катастрофически мало. Отлично сохранились её хозяйственные и бухгалтерские книги, но ни личных дневников, ни любовных писем не нашлось, поэтому восстанавливать её судьбу пришлось по крупицам.
Начало предприятия
Барб-Николь родилась в Реймсе в 1777 году, через 7 лет после свадьбы короля Людовика XVI и Марии Антуанетты. Королева Франции, обожавшая веселье, обожала также и вино с пузырьками, креплёное и более пьянящее, чем обычное. В то время в Шампани, откуда родом была Барб-Николь, уже производили несколько тысяч бутылок игристого вина в год для королевского двора и знати. Производством вина в то время занимались маленькие домашние хозяйства, которые маркировали свои бочки клеймом, а бутылки - разноцветным сургучом, только для того, чтобы отличать их от тех, что делают соседи.
Отец Барб-Николь, состоятельный предприниматель, который занимался текстильной промышленностью, мечтал породниться со знатью, но революция заставила его объявить себя якобинцем и противником монархии. Он выдал старшую дочь Барб-Николь за сына другого состоятельного мануфактурщика из Реймса господила Клико. Семья Клико тоже занималась текстилем, но также и торговала вином - скупала бочки у производителей в Шампани и перепродавала их в другие регионы Франции и немного за границу. В то время это была стандартная схема ведения бизнеса - виноградарям важно было быстрее сбыть вино, чтобы освободить склады для новых бочек и не нести ответственности за испорченный продукт. По бутылкам вино тогда практически не разливали, все бутылки делались вручную, были очень хрупкие и разного размера. Кроме того, до 1720 года Реймсе закон не разрешал бутилировать вино.
Франсуа Клико, молодой супруг Барб-Николь, решил реформировать семейный винный бизнес. Во-первых, он собрался заняться экспортом, во-вторых решил, что выращивание винограда и производство вина тоже должна делать его компания. В качестве свадебного подарка они с Барб-Николь получили солидные угодья и в том числе виноградники. В 1801 году Франсуа решил, что в общем объёме продаж его собственное вино должно составлять четверть. Кроме того, он задумал производить дорогое бутилированное вино - вино в бутылках можно было продать в три раза дороже, чем точно такое же, но в бочках.
Чтобы найти клиентов в конце XVIII-начале XIX века, нужно было ехать к ним со своим вином и проводить дегустацию - трястись месяц в карете, ночевать на сомнительных постоялых дворах, страдать от холода, насекомых, длинной дороги, разлуки с семьёй. Пока Франсуа и его агент по продажам Луи Бона пытались убедить важных господ в Европе заказывать их вино, Барб-Николь растила младенца и приглядывала за продажами на местном рынке. По утрам она ходила проведать виноградники - чтобы получить хорошее вино, собирать урожай нужно на рассвете, когда ягодны влажны и тяжелы от выпавшей росы. Это было её любимое время дня, так она писала в письмах к мужу.
Выращивать и перерабатывать собственный виноград супруги Клико решили после того, как Наполеон, уже став императором, посетил Шампань, остановился в отеле отца Барб-Николь и сообщил, что собирается развивать французское виноделие. Известно, что Наполеон покровительствовал семье Moёt, которая производила в том числе несколько десятков тысяч бутылок игристого в год. Император ценил пузырьки и считал, что винное дело может поправить экономику страны, пошатнувшуюся после революции и очередного витка Англо-французской войны, который закончился в 1802 году. Чтобы подстегнуть рынок, Наполеон заказал химику и министру внутренних дел Франции Жану-Антуану Шапталю трактат о производстве вина.
Труд «Искусство изготовления, хранения и совершенствования вина» считается классической работой по виноделию и советы оттуда до сих пор используются. Для начала XIX века это была революционная работа, регламентирующая и стандартизирующая многие процессы, ранее нигде не записанные и передающиеся от отца к сыну. У супругов Клико, конечно, был экземпляр трактата, и они тщательно следовали всем рекомендациям. У Барб-Николь, кстати, обнаружился талант к купажированию вина - она была великолепным дегустатором и различала очень тонкие оттенки вкуса, это позволяло составлять изысканные букеты из разных сортов винограда, выросших в разных условиях.
Вообще то, что Барб-Николь занималась бизнесом вместе с мужем, было исключением из правил. Если при Людовике XVI примеры женщин-предпринимательниц и жён, участвующих в управлении семейными компаниями, встречались, то при Наполеоне дамам, особенно знатным и состоятельным, предписывалось заниматься подобающими благочестивыми вещами - благотворительностью, рукоделием, образованием детей, балами и приёмами. Женщина должна была быть безымянным украшением света, если чьё-то имя было на слуху - это вызывало кривотолки. Единственное исключение делалось для вдов. Вдовы, с одной стороны, обладали уважением и социальным статусом замужних женщин, с другой, получали право вести дела как мужчины. В винной индустрии как раз было довольно много вдов, которые выращивали виноград, делали вино и продавали его дистрибьюторам. Причём многие из них занимались именно игристым - сегмент рынка был настолько мал, а производство было таким рискованным, что мужчины из больших винных домов просто не хотели тратить на это свои силы.
Франсуа за несколько лет работы испытал, кажется, все тяготы на себе. Он договорился о поставках в Великобританию - там во время войны французское вино было под запретом, и англичане истосковались по нему, поэтому делали щедрые заказы. Но в 1803 году война началась снова, и торговать с Англией опять стало сложно. Лето 1802 года было очень жарким, 80% бутылок с шампанским полопались в погребах, не выдержав высокой температуры. Луи, торговый агент, который работал с семьёй Клико, поехал в Германию, а затем в Россию, рассчитывая на хорошие продажи, но обманулся в своих ожиданиях - немцы и русские заказали куда меньше вина, чем он рассчитывал. Всё это нагоняло тоску на Франсуа. Он вообще был склонен к меланхолии, хотя между приступами был энергичным и весёлым человеком. Вероятно, современные психологи диагностировали бы у него биполярное расстройство. В 1805 году он подхватил тиф и скончался в муках. Барб-Николь стала его единственной наследницей.
В каком-то смысле ей повезло, ни у неё, ни у Франсуа не было братьев. Возможно, если бы в семье были другие молодые мужчины, Барб-Николь даже не задумалась бы о том, чтобы взять дело в свои руки и просто вышла бы второй раз замуж, как хотел её отец. Через месяц после смерти Франсуа, в Реймс примчался Луи (по тем временам он очень быстро, почти молниеносно добрался из Санкт-Петербурга) и начал уговаривать вдову Клико не бросать предприятие. Ему наконец удалось завязать нужные знакомства в России, и он надеялся конвертировать их в хорошие продажи. Так вдова Клико начала превращаться в бренд.
Ещё одна попытка
Свёкор, старик Клико, поддержал невестку и познакомил её со старым другом, предпринимателем Александром Жеромом Форно. Вместе они с Барб-Николь вложили в предприятие 80 000 франков. В пересчёте на сегодняшние доллары это около $2 млн. В те времена рабочий получал около 400 франков в год ($8 000), продавец - около 20 000 в год. Клико вложила три четверти этой суммы, её компаньон инвестировал остальное - в основном вином и средствами производства. Теперь компания продавала практически только собствнное вино, только четверть брала на реализацию у окрестных фермеров.
В 1806 году бизнес-климат во Франции был довольно суровым. В 1803 году начались наполеоновские войны, император с 1805 года противостоял коалиции, в которую входили Англия, Россия, Швеция и Неаполь. Многие дороги были перекрыты, страны вводили санкции друг против друга, правила игры менялись часто, так как соседи поддерживали то одну сторону, то другую. В этих условиях Клико собрала заказы на 55 000 бутылок шампанского ($3 млн по сегодняшнему курсу). Везти их партнёры решили через Амстердам - Голландия была нейтральной страной, из порта в Амстердаме корабли уходили во все концы Европы и в Россию.
Вместе с грузом поехал Луи Бон, и удача подвела его - не хватило не то что дней, часов на отплытие гружёных кораблей. Амстердамский порт закрылся в связи с военным положением, французские суда не выпускали, и вино застряло на складе. Надежды на то, что блокаду снимут скоро, быстро таяли. Лето снова выдалось жарким, и товар Клико испортился. Вдова терпела колоссальные убытки, мало того, что её вино не удавалось продать, приходилось оплачивать дорогой склад и держать зафрахтованное судно под парусами на случай, если блокада падёт. Отправить груз можно было контрабандой на английском или американском корабле, но был риск потерять всю партию - шампанское в таком большом количестве можно было везти только из Франции, а император запрещал торговать с врагами.
Ситуация осложнялась тем, что сам рынок рушился. Война выкачивала деньги из Европы - шампанское уже никого не интересовало, было не до роскоши. Бон доехал до России и благодаря своим связям разузнал, что императрица Елизавета Алексеевна в положении - появилась надежда, что наконец родится наследник престола, и по этому случаю будет устроен пир, без игристого вина обойтись не получится. Но увы, родилась девочка, которая скоро скончалась - продать вино не вышло. Бона тем временем обвинили в шпионаже на Наполеона и чуть не сослали в Сибирь, свою работодательницу он постоянно предупреждал в письмах, чтобы она не касалась политики и писала только о делах, ведь его свобода и жизнь под угрозой. Доставить 50 000 бутылок в Санкт-Петербург удалось только в 1808 году.
Когда между Францией и Россией, где вдову Клико уже хорошо знали и успели полюбить её вино, установился хрупкий мир, снова подвела природа - 1809 год выдался неурожайный, и в 1810 партнёр покинул Барб-Николь. Она задумалась о ликвидации предприятия, но на этот раз её уговорил не сдаваться отец. Он прокредитовал дочь, которая теперь осталась одна не только в семейной жизни, но и в бизнесе, и Клико сумела купить 10 000 бутылок, 125 000 пробок и шесть дюжин бочонков на 30 000 франков. Она стала независимой знатной женщиной, которая в одиночку управляла достаточно крупным интернациональным бизнесом - выдающийся пример для наполеоновской эпохи.
Первое, что сделала вдова, когда стала единственной главой собственной фирмы - навела порядок в счетах и бухгалтерских книгах. Второе - переориентировалась на местный рынок, снизила долю дорогого, но ненадёжного шампанского и увеличила долю простых, но качественных домашних столовых вин. К декабрю 1810 года, когда вдове Клико исполнилось 33, она практически рассчиталась с долгами предыдущего совместного предприятия, вернула себе старых поставщиков и клиентов, распродала изрядную часть своего добротного вина французам для празднования Нового года. Встречая 1811 год, она была готова к тому, чтобы он принёс ей удачу. И он принёс.
Счастливая звезда
Пьер Безухов наблюдал комету, «которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света», когда ехал по ночной Москве. Она появилась над Пречистенкой, и Пьер «радостно, мокрыми от слёз глазами, смотрел на эту светлую звезду». Шампанское, произведённое в 1811 году, встречается в «Евгении Онегине», в романе Валентина Пикуля «Каждому своё» и в других произведениях. Это, конечно, вино «Вдова Клико». Барб-Николь наконец повезло - лето выдалось нежарким, вино и шампанское 1811 года получились невероятно прозрачными, с медовым привкусом. Пролетавшая над виноградниками Большая комета добавила ему загадочности (и прибавила несколько десятков франков к цене). Бутылки этого урожая Клико считала жемчужинами своего производства.
К сожалению, политическая обстановка снова не позволяла надеяться продать их по той цене, которую они заслуживали. На самом деле, в 1812 году Клико удалось продать всего 80% от того количества вина, которое смог в 1805 году продать её несчастный муж. А ведь тогда он захворал и умер от того, что переживал из-за коммерческой неудачи.
К концу 1813 жители Реймса обнаружили войну у своего порога. Клико была в отчаянии - её подвалы были переполнены вином, которое не удавалось сбыть. Она с ужасом ждала, когда злые, голодные военные - не важно с какой стороны - войдут в город и разграбят её хранилища. Это будет означать полное разорение. Больше всего она опасалась за то самое шампанское 1811 года, которое почти созрело и в мирное время принесло бы баснословный доход. Когда русские наконец пришли, оказалось, что это вовсе не озверевшие орды дикарей. Князь Сергей Александрович Волконский, майор Архангельского полка, был назначен комендантом Реймса, он запретил грабежи и строго следил за порядком. Когда он покидал город после перемирия, городские власти поднесли ему ларец, усыпанный бриллиантами, в благодарность за мудрость и справедливость.
Офицены российской армии не забирали, они покупали вино у Барб-Николь. Да, многие делали это в долг, но вдова Клико охотно ссужала им бутылки. Она рассматривала это как инвестицию - скоро они вернутся домой и станут заказывать у неё дорогое шампанское на праздники и годовщины. Ирония состояла в том, что все эти годы вдова Клико гонялась за покупателями и ненавидела войну, которая не позволяла торговать ей в полную силу. А теперь война сама привела к ней армию клиентов. Кстати, её конкурент Жан-Реми Моэт тоже понимал, как важно угощать военных: «Эти офицеры, разоряющие меня сегодня, принесут мне состояние завтра», - писал он в своём дневнике.
Светлая полоса
Комета как будто принесла вдове Клико долгожданную удачу - все авантюры стали ей удаваться. Весной 1814 года она решилась контрабандой отправить партию лучшего шампанского в Кёнигсберг, где русская знать праздновала день рождения царя. Бутылки доехали в целости, и их раскупили ещё в порту за взвинченную цену. Её корабли больше не попадали в кораблекрушения, покупатели сами находили её и требовали всё больше и больше вина. Главным рынком сбыта на несколько лет стала Россия, но именно в Европе вдову назвали Grande Dame - Великая Дама. С 1790 года по 1830 продажи шампанского выросли в мире на 1000% - с нескольких сотен тысяч бутылок в год до 5 млн. И заслуга Барб-Николь в этом была колоссальная. Вдова Клико была единственной женщиной-мануфактурщицей с огромным объёмом производства и широкой торговой сетью.
Вдова придумала подавать шампанское в узких высоких бокалах - раньше его пили из приплюснутых креманок - и эта посуда скоро вошла в моду по всему миру. Она первой из производителей начала клеить на бутылки яркие этикетки, чтобы покупатели отличали её вино сразу и безошибочно - фирменный оранжевый цвет выбрала именно она. Наконец, Барб-Николь изобрела метод избавления от осадка - ремюаж, которым пользуются до сих пор. Именно Клико придумала шкаф, в котором все бутылки со зреющим шампанским должны стоять горлышком вниз под разным углом и процедуру, согласно которой периодически их нужно вынимать, переворачивать и вставлять в другие гнёзда под новым углом.
Клико была исключительной женщиной, талантливым бизнесменом и изобретателем, но она не была феминисткой. Клико вполне разделяла точку зрения общества на женщин и считала, что им лучше бы сидеть замужем, свою дочь до бизнеса она не допускала и завещала всё дело Эдуарду Верле, управляющему, которого наняла, когда начала стареть и слабеть. Она считала, что всех успехов добилась вынужденно - если бы не смерть мужа и не отсутствие других молодых мужчин в семье, она выбрала бы себе более подходящее женщине занятие. Тем не менее пример этой женщины, построившей целую империю в исключительно сложных обстоятельствах, должен вдохновлять каждого.
Самые важные новости и лучшие тексты - в нашем Telegram-канале . Подписывайтесь!
Фотография на обложке: Wikimedia Commons
Мы, женщины, готовы на многое для обретения идеальной фигуры. Порой, всевозможные усилия не помогают сделать талию узкой, а бедра стройными. Тогда мы мечтаем о чудесном способе, который поможет убрать лишнее именно там, где нужно, и сделать фигурку точеной и легкой. Такой чудесный способ есть — это кавитация. И здесь, как в истории рождения прекрасной Афродиты из пены, не обойдется без волшебных пузырьков.
Кавитация — это метод борьбы с локальными жировыми отложениями. Если требуется решить проблему лишнего веса, когда есть системное отложение жиров, то в первую очередь необходимы комплексные меры, которые помогут ускорить обмен веществ, запустить процесс сжигания жиров. Придется изменить режим питания, усилить физическую нагрузку, может даже поменять образ жизни. И только после этого, когда снизился общий вес, но осталось недовольство проблемными зонами, метод кавитации приходит на выручку.
«По характеру воздействия различаются ультразвуковая и EWATage (эватаж) кавитация, — рассказывает врач-физиотерапевт, главный врач Медицинского центра «Эстетик» Светлана Некрасова. Суть ультразвукового воздействия в том, что волна, имеющая строго определенную длину (от 34 до 73 мгц), проникает в ткани и вызывает раскачивание жировых клеток — своеобразный микромассаж. В результате такого раскачивания, внутри клетки образуются микропузырьки. Их появление в жировой ткани — это и есть эффект кавитации».
После процедуры кавитации нужно правильно питаться и выполнять назначения врача, тогда эффект потери объема может достигать четыре сантиметров в неделю.
Дальше происходит следующее: пузырьки переполняют клетку изнутри, расширяют ее, образовывая в мембране трещинки. Через них содержимое покидает клетку, а затем — и организм. После процедуры рекомендуется диетическое питание, лимфодренаж и специальный питьевой режим.
Эватаж-кавитация по воздействию еще более интенсивная, чем ультразвуковая. В ее основе лежит экстракорпоральная ударно-волновая терапия, то есть механическое воздействие на ткани. Для описания этого метода можно привести сравнение с тем, как брошенный камень вызывает круги на воде. Подобно этому серия волновых ударов вызывает дестабилизацию жировой ткани. В результате также возникают пузырьки, и содержание клетки меняется по консистенции. В обычном состоянии жировая клетка достаточно плотная, а кавитация делает его лабильной и готовой к выведению. Неверно ожидать заметного результата сразу после процедуры: жировые излишки должны быть выведены постепенно, тогда это более естественный, физиологичный процесс.
Обе процедуры переносятся комфортно: при ультразвуковой кавитации ощущается тепло, при эватаж-кавитации — легкое постукивание. Какой метод больше подойдет в каждом конкретном случае, решает врач — выбор зависит от количества и качества жировой ткани и от других индивидуальных особенностей.
«Хочется отметить, — продолжает Светлана Владимировна, — что эватаж-кавитация — это разработка нашего центра. Производитель ударно-волнового оборудования не предусматривал его использование с целью уменьшения жировых отложений. Но подбор необходимой насадки, расчет мощности и частоты воздействия позволил нам добиться отличных результатов в этой области применения. Результаты были признаны производителем оборудования, и сейчас мы готовы делиться опытом на международном уровне, так как интерес к развитию этого направления в современной косметологии большой».